Ежедневно, 12:00-20:00
1
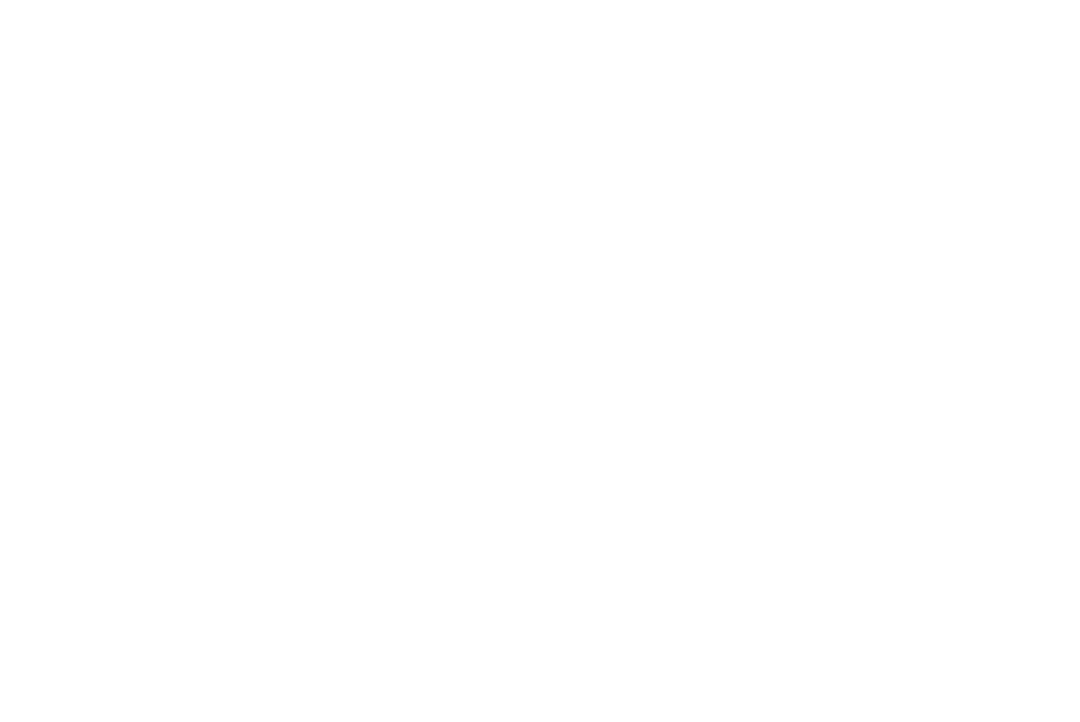
Виктор Евсеевич Николаев
(1943, Москва — 2017, Берлин) -
российско-германский художник - абстракционист, каллиграф.
Виктор Николаев в своих произведениях на персональной выставке в Третьяковской галерее в мае 1993 г. "обращается к наследию Кандинского, утверждая жизнеспособность чистой абстракции как одного из главных феноменов визуальной культуры нашего столетия", - писала газета "Коммерсантъ".
В своем пресс-релизе Kupol Gallery (CUBE, Москва) писала: "... открылась персональная мемориальная выставка Виктора Николаева [05.09.21 — 12.10.21], чей творческий метод не имеет аналогов в российском искусстве XX века. Живопись Николаева стоит особняком в ряду постмодернистских течений неофициального советского искусства. В ранних произведениях Николаева проявляются отголоски пластических открытий творцов лирической абстракции: Джексона Поллока, Жоржа Матье, Пьера Сулажа. Чуть позже ориентирами для него становятся Анри Матисс, Винсент Ван-Гог, Жоан Миро, а также Василий Кандинский и Пауль Клее — художники, беспредметное искусство которых было ориентировано на выявление архетипического начала, что было органически близко творческому кредо Виктора Николаева."
3 июля 2017 года в Берлине завершился земной путь художника Виктора Евсеевича Николаева. «Лучший московский абстракционист», - так его называли в кругах коллекционеров.
После ухода Виктора Николаева в 2017 году выставки, посвящённые его творчеству, продолжают организовываться:
•В Kupol Gallery, CUBE, Москва, открылась выставка "После концепции", сентябрь - октябрь 2021 г.;
•В галерее "Краски жизни", в С.-Петербурге, состоялась выставка "Абстрактная каллиграфия" - февраль- март 2022 г.;
•В Выставочном зале в Кадашах, в Москве, - выставка "Магия Беспредметности", декабрь 2022 - январь 2023 г.;
•В галерее абстрактного искусства "Арт-Феникс", в Москве, -
выставка "Линии Пустоты", декабрь 2023 - март 2024 г. ;
•Выставка "Абстрактный оркестр", стенд А13 галереи "Арт-Феникс", на IV выставке - форуме "Уникальная Россия", Гостиный двор, Москва, май 2024.
Московская галерея абстрактного искусства "Арт-Феникс" владеет самой большой коллекцией произведений художника Виктора Николаева, более 1000 работ.
Третьяковская галерея выпустила Каталог персональной выставки "НИКОЛАЕВ", который хранится в архиве ГТГ, в Архиве Музея современного искусства «Гараж», в Галерее "Арт-Феникс".
Евгений Семёнович Штейнер — советский, российский и американский японист, искусствовед, культуролог, литературовед, писал в статье "Каллиграфия в духе" (о пост-языке, святом духе и художнике Николаеве):
".... Письменотворчество, или создание нового шрифта (script) можно назвать скрипторизацией духовного опыта. Вспомнив другое современное значение слова script (сценарий), можно сказать, что новыми письменами пишется сценарий нового (или иного) мира. Художник, пишущий этими знаками, превращается в транслятора (в передатчика, но отнюдь не в переводчика!) в скриптории при Вавилонской библиотеке – где создаются тексты на иноязыках. Не на ныне забытых, а на изначально нечитаемых и неглаголемых...
И знаки его [николаевские] не подобны ни буквам алфавита, ни иероглифам. Знаки... как дхармы – эти элементарные кирпичики буддийской вселенной... которые взаимосвязаны, неповторимы... Что комбинации дхарм, что николаевские знаки похожи на рябь на воде, маленькие колебания в определенном ритме. Они не читаются как слова (левым полушарием), не воспринимаются конкретно как именно эти знаки, а воспринимаются сразу и вполглаза – расфокусированным, расширенным зрением. То есть это, пожалуй, тексты не содержания, но состояния (их автора) и могущие ввести в состояние (того, кто смотрит)... Это, скорее, энергийная практика. В абстрактной каллиграфии Николаева прочитывается энергия жеста – когда кто-то (или что-то) водит рукой художника.
Такому транслятору необязательно знать проходящий через него язык – достаточно отключить сознание и включить руку, чтобы через кисть с нее стекали невнятные божественные глаголы... В терминах другой традиции можно было бы назвать это языком чистой энергии, вне-языковой, но питающейся энергией неба, тела или воды и выводящей сознание в за-языковую реальность, в ту область, в которой энергия Того, кто вне и над, соединяется с человеческой энергией."
Штейнер провёл интересную аналогию между сакральными японскими письменами и каллиграфией Николаева:
"... Этот момент напомнил мне историю из японских рассказов о привидениях – рассказ о безухом Хоити. Игра на бива некоего Хоити так понравилась духам покойных суровых воинов дома Тайра, что они требовали у него играть еще и еще. Перепуганного Хоити спас буддийский монах, исписав все его тело священными письменами сутр, в результате чего игрец стал невидим для духов. Святой старец забыл лишь написать иероглифы на ушах, каковые уши и торчали у несчастного музыканта и немедленно привлекли внимание злобных духов. Последствия последовали немедленно – уши были оторваны. От кого защищают или что призывают письмена Николаева – сказать трудно. От некоего нерасчлененного шума культуры, который подавляет и выматывает, возможно" (Евгений Штейнер).
А вот что писала о Викторе Николаеве в 1989 году Марина Бессонова, российский историк искусства, критик, музейный деятель:
"Живопись Виктора Николаева занимает свое особое место в потоке постмодернистских экспериментов так называемого неофициального совет-
ского искусства. Его беспредметный язык имеет мало общего с модными в России 70-80-х годов явлениями соц-арта, постконструктивистского геометризма, гиперреализма, концептуализма или новой рефигуративной экспрессии... Ярко выраженный экспрессивный жест его беспредметничества прошел через горнило ускоренного развития советского андеграундного искусства последних двух десятилетий, вступив, вместе с ним, в этап существования живописи "после концепции”... В ранних работах незримо дает себя знать скрытый протест Николаева против господствующих в 70-е годы в неофициальном советском искусстве соц-арта и геометризма, его независимость по отношению к этим тенденциям... Художник обратился к живописи сравнительно поздно, в 1969 году. В 70-м произошло его знакомство с Франциско Инфанте, известным тогда представителем группы кинетистов, основателем так называемого "арте-факта". Встреча с Инфанте дала
Николаеву неожиданный толчок к бурному развитию его индивидуального стиля, возбудила жажду его личного творчества. Ориентирами, как и для мастеров предшествующего послевоенного поколения советских авангардистов, стали крупнейшие художники парижской школы: Матисс, Ван-Гог, Х. Миро, а также Кандинский и П. Клее... Одна из задач, которые ставит для себя Николаев с начала 1980 годов - раскрепощение от сиюминутного бытия в процессе творческого акта. К этому
результату он стремился исподволь с периода увлечения дзенбуддизмом, как бы повторив путь послевоенного европейского авангарда. На этом пути он прошел многие "искушения" беспредметничества, следуя и за методом спонтанного письма "Дриппин-
га" Дж. Поллока. Интуитивные всплески акриловых мазков создавали на квадратных или продолговатых поверхностях образования разной
конфигурации, обладающие способностью к дальнейшей трансформации, как бы заряженные космической энергией... Имманентного слияния с материалом он достиг, перейдя к более "мануальной"
технике гуаши на бумажных листах, дающей иллюзию выхода эмоционального состояния в процессе
овеществления, как бы творящей постоянно воплощающуюся медитацию. Здесь нельзя не отметить параллелизм с методом ташизма.
Следующим шагом был переход от ташистских приемов к поискам выразительного знака, по примеру абстрактной японской каллиграфии. На этом этапе беспредметничество Николаева достигло абсолютной творческой зрелости...
В отдельных работах серии, возникающих в течение кратчайшего временного отрезка, появляются как бы сотворенные из хаоса, бесформенного "ничто", фигуративные элементы, напоминающие лица, предметы, животных. Внешне они перекликаются с фигуративными знаками ранних
абстрактных композиций Кандинского, но если последние - суть бескомпромиссные линейные знаки,
уподобленные невещественным письменам, возникшим перед умственным взором Навуходоносора, то
хрупкие видения Николаева всплывают из глубин подсознания, чтобы тут же исчезнуть, дав жизнь красочным и линейным намекам, вовлекающим
зрителя в интригующее странствие по тропам визионерского мышления... Подчас эти формы появляются в наиболее напряженных зонах многомерного николаевского пространства, как бы в точке пересе-
чения различных по природе миров "умного видения", выворачивая наизнанку обычное понятие зрителя о "верхе" и "низе" в композиции, подобно
кульминационным местам в симфониях Штокгаузена, звенящая тишина между которыми, как и разряженная от линий и пятен цвета пустота между сгустками форм в живописных абстракциях, служат средством дистанцирования готовых уничтожить друг друга, полярных по смыслу природных начал... Итогом этого творческого процесса на родине художника явилась его персональная выставка в московском Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки, сопровождавшаяся сеансами вечеров с исполнением произведений Штокгаузена, так называемыми
"спонтанными действиями".
В последние два года в творчестве Николаева появились менее драматичные, более спокойные по
цвету философические произведения, фигуративные элементы в которых напоминают наскальные доисторические фрески. Это неосознанный жест художника, сумевшего разбудить, "раскачать" дремлющие в глубине подсознания первобытные инстинкты. В этих композициях дают себя знать
специфические признаки фактуры, не игравшей прежде существенной роли в его работах. Смятость, местами "сломанность" гладкого поля картона, холста или бумаги, покрытого в композициях темперными красками на клеевой основе, создает тусклую
поверхность в композициях, в которых все большую роль играет "пустота", разреженная зона между формами. Стертость, неясность границ между
цветами и формами вызывает эффекты мерцания, неожиданного сияния "пустоты", в зависимости от
расположения внешнего источника света. В данных работах Николаев уже вплотную подходит к цели,
поставленной им перед собой еще в начале творчества - созданию всеобъемлющего, "всеохватного" ис-
кусства..." (Марина Бессонова).
Галина Вадимовна Ельшевская — российский искусствовед, историк и критик искусства, специалист по русскому искусству XIX-XX веков, русской и советской графике, писала о творчестве Виктора Николаева следующее: "...Занятия асбтрактным искусством предполагают философский склад ума и характера. Так во всяком случае принято считать, и не без оснований: работа с отвлеченными формами, с очищенными категориями языка порождает своего рода интеллектуальную рефлексию и провоцирует на теоретизирование по поводу общих законов пластики и пространства. Виктор Николаев - абстрационист стихийный, "нутряной":
тем интересен и оттого даже в собственном кругу одинок. На протяжении многих лет, не будучи избалован признанием, он последовательно осуществлял свою
программу - собственно, и на программу-то ничуть не похожую.
Видимая "антипрограммность" состоит в том, что первоначальный спонтанный жест, лежащий, вероятно, в основе любой экспрессивной абстракции, здесь сознательно не подвергается воздействию никакой внешней дисциплины. Каждая отдельная работа напоминает непосредственный "ташистский" выбор эмоций; "дикорастущие" штрихи, нежесткая маркированность верха и низа, свободное цветение композиций. Форма возникает как прихоть почерка,
непредсказуемый результат автоматического письма. Впрочем, графологические характеристики этого почерка достаточно постоянны и образуют своего рода внутренний канон внутри же канона конфигурация элементов всякий раз зависит от конкретного состояния души, определяющего и темп живописной речи, и цветовую мелодику, и выбор формата и основы.
Доверие к субъективной стихийности чревато эстетическим произволом - однако с холстами и картонами Никола-
ева этого, как правило, не происходит. При всей экспрессивной хаотичности художественного языка в большинстве вещей ощутимо присутствие сложной гармонии; они - неслучайны. Словно бы каждая "стенограмма" созвучна неким природным, космическим ритмам, на которые настроена и подобно мембране отзывается кисть.
Видимо, в этом состоит осознанная или нет, несущественно-внутренняя установка художника: включить собственную артистическую импульсивность в мировой энергетический поток, чтобы возникающий абстрактный образ нес в себе отпечаток этого потока и оттого обладал бы знаковой непреложностью сродни непреложности медиумического сообщения. Напряженность или успокоенность композиций, их легкость или весомость интерпретируют
изначальные оппозиции "активного - пассивного", "мягкого - твердого" и так далее. То есть, сквозь индивидуальный
тембр и личностную аранжировку проявляется опять же в спорадическом, непосредственном жесте тот общий, сущностный закон, который и делает картину не случайным сочетанием линий и пятен, но явлением искусства.
Собственно, подобный метод работы был сформулирован достаточно давно, еще старыми китайскими мастерами. Как сказал один художник-каллиграф,
"если сердце правильно настроено, то кисть правильно движется. Сердце правильное, и кисть правильная"
(Галина Ельшевская).
Евгений Штейнер в своей искренней, дружеской статье "Про Витю Николаева" писал: "Самое примечательное в нем [Викторе Николаеве]- постоянство и верность себе. Точно так же [как в Иерусалиме] Николаев писал в Москве, в Париже, так же он работает теперь в Кельне. Наверное, самое экзотическое окружение вряд ли способно сильно изменить его.
Николаев всегда и везде тот же самый. Он принадлежит к художникам- визионерам, которые смотрят не вовне, а внутрь - не внутрь вещей, а
внутрь себя. Николаев - не зритель, не созерцатель, даже не преображатель. Его картины являют собой чистое умозрение в красках. Осознанно или
нет, он исповедует жизнетворческий идеал даосского мудреца - не выходя на двор, познает мир. Живописный мир В. Николаева мир чистой формы, которая в конечном итоге и является сущностью живописи. Это краски, линии и фактура, предельно сублимированные от профанической реальности, от грубой предметности вещей и иллюзорности человеческих отношений. Это живопись немудрого философа, малого мира сего, прозревшего первозданный хаос, таящийся под накинутой на
него сеткой классифицирующей регламентации, то бишь культуры. Мир Николаева - это мир до наречения имен, это живопись простая как мычание, ибо к чему слова, коли прочувствована всеобщность жизни - в коей, как было сказано давно и не нами, все -
в одном, и одно - во всем... Засилье вербализма отучило видеть живопись как таковую. Концептуализм, последняя по времени мощная экспансия литературы в изобразительное искусство, породил множество квазивизуальных текстов умных, многосмысленных, ироничных, но почти заставил забыть, что была когда-то адекватная своему времени живопись, просто живопись - искусство размазывания красок на плоскости.
Живопись Николаева постконцептуальна и чиста от слов, идей, псевдодемократической чепухи и
т. п. Все его композиции лишены даже названий. Это непрограммные музыкальные разработки, фиксирующие состояние души при отвлеченном состоянии духа. Трудно воспринять это адекватно, трудно отказаться от описательных подпорок, хотя
бы в виде названия так поступили, например, составители каталога выставки Николаева в Париже,
назвав большое полотно с обилием острых динамичных красных пятен "Красные идут". Как и следова-
ло ожидать, коммерческая ценность работы после этого возросла; поле духовного притяжения - ослабло.
Экспрессивная лирика абстракций Николаева безразлична не только к времени и месту действия - будь-то застойно-перестроечная Москва, или Париж и Иерусалим (эпитеты вставьте сами). Его живопись хочет быть Живописью как идея, отвлеченной от конкретного, вечного, носителя его
цветных пятен, кругов и закорючек. Он может писать на холсте, на скатерти, на цветных занавесках, на принесенных с помойки фанерках... Одно время он активно использовал холстину с рекламных щитов Дома Художника на Крымском валу [в Москве], извещавших о разных выставках. Едва загрунтованные казенные надписи типа "Живопись" или "Графика", или еще того несуразней подчас проступают из-под эмоциональной невнятицы Николаева - как чужое слово, оставшееся лишь в виде сора, из которого, не ведая стыда, растут бессловесные тексты нашего героя.
Эти холсты с замазанной рекламой продукции советских мастеров изобразительного искусства
предстает пост-концептуальным (а может, и пост-культурным) палимпсестом, на коем художник-
варвар кистью сонной... пишет неизреченные знаки, оставшиеся после смерти человеческой речи..."
(Евгений Штейнер,
Иерусалимский Университет).
А вот что пишет Павлена Павлова, куратор московских выставок "Магия Беспредметности", "Линии Пустоты", "Абстрактный оркестр", "Пламень племени нонконформистов", общаясь только с произведениями В. Николаева: "Работая с абстрактной каллиграфией Виктора Евсеевича Николаева приходит ощущение, что ты соприкасаешься со вселенским разумом через личное бессознательное художника, такова космическая глубина произведений художника. Во истину не ведал, что творил, - такова масштабность этого художника. Чем дольше разглядываешь картины В. Николаева, тем больше образов рождается в моем воображении. Все они очень интересные. Удивительно, что в одном и том же произведении можно одновременно увидеть и грустное, и юмор. Очень глубок, богат внутренний мир этого художника, а его творчество обогащает зрителя и эмоционально, и интеллектуально, развивает образное мышление и фантазии.
Виктор Николаев создал свой инопланетный эмоционально -буквенный код" (Павлена Павлова).
Статье "Знак свободы. Памяти Виктора Николаева" Ильдар Харисов писал: "... Виктор Николаев около двух десятилетий делил свой быт и работу между столицами России и Германии, словно связывая Москву и Берлин единым цветовым «жестом», загадочным и притягательным знаком – символом общности и всеохватности культуры. «Знак» было любимое слово Виктора. «Сила знака», «Власть знака», «Метаморфозы знака» – названия его выставок, перформансов, мини-эссе. Предметом особой гордости Виктора было умение быстро, «на лету» покрыть листы бумаги или человеческое тело рядом красивых знаков, напоминающих японские или китайские иероглифы. Уверенные движения кисти, часто в диалоге с музыкой, – и перед изумленным зрителем возникает целое письмо, написанное на неизвестном языке, рожденном в воображении художника. Ни один из знаков не повторяется, всё возникает «здесь и сейчас», как некая спонтанная каллиграфия души, квинтэссенция момента, визуализация бессознательного и сверхсознательного. Такова же и живопись Виктора Николаева: импульсивная, «сновиденная», сторонящаяся привычных геометрических форм.
В жизни художник также старался избегать формальностей, правил, общепринятых рамок... В 2005 г. он создал «Театр каллиграфии», показывавший спектакли-перформансы в культурных центрах Москвы, Берлина, Лейпцига, Ганновера, Севастополя и других городов... Непростые семейные отношения, невписанность в истеблишмент, постоянная готовность вторгнуться в душевные и художественные миры как современников, так и мастеров далеких эпох, горячие споры с коллегами – а среди участников и соавторов проектов «Театра каллиграфии» были выдающиеся музыканты, танцоры, литераторы – всё это создавало «вулканическую» атмосферу вокруг московско-берлинского «шамана» Виктора Николаева, любящего и умеющего удивлять не только других, но и себя самого..."
(Ильдар Харисов - музыкант, литератор, член Союза писателей XXI века и Союза композиторов РФ)
(1943, Москва — 2017, Берлин) -
российско-германский художник - абстракционист, каллиграф.
Виктор Николаев в своих произведениях на персональной выставке в Третьяковской галерее в мае 1993 г. "обращается к наследию Кандинского, утверждая жизнеспособность чистой абстракции как одного из главных феноменов визуальной культуры нашего столетия", - писала газета "Коммерсантъ".
В своем пресс-релизе Kupol Gallery (CUBE, Москва) писала: "... открылась персональная мемориальная выставка Виктора Николаева [05.09.21 — 12.10.21], чей творческий метод не имеет аналогов в российском искусстве XX века. Живопись Николаева стоит особняком в ряду постмодернистских течений неофициального советского искусства. В ранних произведениях Николаева проявляются отголоски пластических открытий творцов лирической абстракции: Джексона Поллока, Жоржа Матье, Пьера Сулажа. Чуть позже ориентирами для него становятся Анри Матисс, Винсент Ван-Гог, Жоан Миро, а также Василий Кандинский и Пауль Клее — художники, беспредметное искусство которых было ориентировано на выявление архетипического начала, что было органически близко творческому кредо Виктора Николаева."
3 июля 2017 года в Берлине завершился земной путь художника Виктора Евсеевича Николаева. «Лучший московский абстракционист», - так его называли в кругах коллекционеров.
После ухода Виктора Николаева в 2017 году выставки, посвящённые его творчеству, продолжают организовываться:
•В Kupol Gallery, CUBE, Москва, открылась выставка "После концепции", сентябрь - октябрь 2021 г.;
•В галерее "Краски жизни", в С.-Петербурге, состоялась выставка "Абстрактная каллиграфия" - февраль- март 2022 г.;
•В Выставочном зале в Кадашах, в Москве, - выставка "Магия Беспредметности", декабрь 2022 - январь 2023 г.;
•В галерее абстрактного искусства "Арт-Феникс", в Москве, -
выставка "Линии Пустоты", декабрь 2023 - март 2024 г. ;
•Выставка "Абстрактный оркестр", стенд А13 галереи "Арт-Феникс", на IV выставке - форуме "Уникальная Россия", Гостиный двор, Москва, май 2024.
Московская галерея абстрактного искусства "Арт-Феникс" владеет самой большой коллекцией произведений художника Виктора Николаева, более 1000 работ.
Третьяковская галерея выпустила Каталог персональной выставки "НИКОЛАЕВ", который хранится в архиве ГТГ, в Архиве Музея современного искусства «Гараж», в Галерее "Арт-Феникс".
Евгений Семёнович Штейнер — советский, российский и американский японист, искусствовед, культуролог, литературовед, писал в статье "Каллиграфия в духе" (о пост-языке, святом духе и художнике Николаеве):
".... Письменотворчество, или создание нового шрифта (script) можно назвать скрипторизацией духовного опыта. Вспомнив другое современное значение слова script (сценарий), можно сказать, что новыми письменами пишется сценарий нового (или иного) мира. Художник, пишущий этими знаками, превращается в транслятора (в передатчика, но отнюдь не в переводчика!) в скриптории при Вавилонской библиотеке – где создаются тексты на иноязыках. Не на ныне забытых, а на изначально нечитаемых и неглаголемых...
И знаки его [николаевские] не подобны ни буквам алфавита, ни иероглифам. Знаки... как дхармы – эти элементарные кирпичики буддийской вселенной... которые взаимосвязаны, неповторимы... Что комбинации дхарм, что николаевские знаки похожи на рябь на воде, маленькие колебания в определенном ритме. Они не читаются как слова (левым полушарием), не воспринимаются конкретно как именно эти знаки, а воспринимаются сразу и вполглаза – расфокусированным, расширенным зрением. То есть это, пожалуй, тексты не содержания, но состояния (их автора) и могущие ввести в состояние (того, кто смотрит)... Это, скорее, энергийная практика. В абстрактной каллиграфии Николаева прочитывается энергия жеста – когда кто-то (или что-то) водит рукой художника.
Такому транслятору необязательно знать проходящий через него язык – достаточно отключить сознание и включить руку, чтобы через кисть с нее стекали невнятные божественные глаголы... В терминах другой традиции можно было бы назвать это языком чистой энергии, вне-языковой, но питающейся энергией неба, тела или воды и выводящей сознание в за-языковую реальность, в ту область, в которой энергия Того, кто вне и над, соединяется с человеческой энергией."
Штейнер провёл интересную аналогию между сакральными японскими письменами и каллиграфией Николаева:
"... Этот момент напомнил мне историю из японских рассказов о привидениях – рассказ о безухом Хоити. Игра на бива некоего Хоити так понравилась духам покойных суровых воинов дома Тайра, что они требовали у него играть еще и еще. Перепуганного Хоити спас буддийский монах, исписав все его тело священными письменами сутр, в результате чего игрец стал невидим для духов. Святой старец забыл лишь написать иероглифы на ушах, каковые уши и торчали у несчастного музыканта и немедленно привлекли внимание злобных духов. Последствия последовали немедленно – уши были оторваны. От кого защищают или что призывают письмена Николаева – сказать трудно. От некоего нерасчлененного шума культуры, который подавляет и выматывает, возможно" (Евгений Штейнер).
А вот что писала о Викторе Николаеве в 1989 году Марина Бессонова, российский историк искусства, критик, музейный деятель:
"Живопись Виктора Николаева занимает свое особое место в потоке постмодернистских экспериментов так называемого неофициального совет-
ского искусства. Его беспредметный язык имеет мало общего с модными в России 70-80-х годов явлениями соц-арта, постконструктивистского геометризма, гиперреализма, концептуализма или новой рефигуративной экспрессии... Ярко выраженный экспрессивный жест его беспредметничества прошел через горнило ускоренного развития советского андеграундного искусства последних двух десятилетий, вступив, вместе с ним, в этап существования живописи "после концепции”... В ранних работах незримо дает себя знать скрытый протест Николаева против господствующих в 70-е годы в неофициальном советском искусстве соц-арта и геометризма, его независимость по отношению к этим тенденциям... Художник обратился к живописи сравнительно поздно, в 1969 году. В 70-м произошло его знакомство с Франциско Инфанте, известным тогда представителем группы кинетистов, основателем так называемого "арте-факта". Встреча с Инфанте дала
Николаеву неожиданный толчок к бурному развитию его индивидуального стиля, возбудила жажду его личного творчества. Ориентирами, как и для мастеров предшествующего послевоенного поколения советских авангардистов, стали крупнейшие художники парижской школы: Матисс, Ван-Гог, Х. Миро, а также Кандинский и П. Клее... Одна из задач, которые ставит для себя Николаев с начала 1980 годов - раскрепощение от сиюминутного бытия в процессе творческого акта. К этому
результату он стремился исподволь с периода увлечения дзенбуддизмом, как бы повторив путь послевоенного европейского авангарда. На этом пути он прошел многие "искушения" беспредметничества, следуя и за методом спонтанного письма "Дриппин-
га" Дж. Поллока. Интуитивные всплески акриловых мазков создавали на квадратных или продолговатых поверхностях образования разной
конфигурации, обладающие способностью к дальнейшей трансформации, как бы заряженные космической энергией... Имманентного слияния с материалом он достиг, перейдя к более "мануальной"
технике гуаши на бумажных листах, дающей иллюзию выхода эмоционального состояния в процессе
овеществления, как бы творящей постоянно воплощающуюся медитацию. Здесь нельзя не отметить параллелизм с методом ташизма.
Следующим шагом был переход от ташистских приемов к поискам выразительного знака, по примеру абстрактной японской каллиграфии. На этом этапе беспредметничество Николаева достигло абсолютной творческой зрелости...
В отдельных работах серии, возникающих в течение кратчайшего временного отрезка, появляются как бы сотворенные из хаоса, бесформенного "ничто", фигуративные элементы, напоминающие лица, предметы, животных. Внешне они перекликаются с фигуративными знаками ранних
абстрактных композиций Кандинского, но если последние - суть бескомпромиссные линейные знаки,
уподобленные невещественным письменам, возникшим перед умственным взором Навуходоносора, то
хрупкие видения Николаева всплывают из глубин подсознания, чтобы тут же исчезнуть, дав жизнь красочным и линейным намекам, вовлекающим
зрителя в интригующее странствие по тропам визионерского мышления... Подчас эти формы появляются в наиболее напряженных зонах многомерного николаевского пространства, как бы в точке пересе-
чения различных по природе миров "умного видения", выворачивая наизнанку обычное понятие зрителя о "верхе" и "низе" в композиции, подобно
кульминационным местам в симфониях Штокгаузена, звенящая тишина между которыми, как и разряженная от линий и пятен цвета пустота между сгустками форм в живописных абстракциях, служат средством дистанцирования готовых уничтожить друг друга, полярных по смыслу природных начал... Итогом этого творческого процесса на родине художника явилась его персональная выставка в московском Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки, сопровождавшаяся сеансами вечеров с исполнением произведений Штокгаузена, так называемыми
"спонтанными действиями".
В последние два года в творчестве Николаева появились менее драматичные, более спокойные по
цвету философические произведения, фигуративные элементы в которых напоминают наскальные доисторические фрески. Это неосознанный жест художника, сумевшего разбудить, "раскачать" дремлющие в глубине подсознания первобытные инстинкты. В этих композициях дают себя знать
специфические признаки фактуры, не игравшей прежде существенной роли в его работах. Смятость, местами "сломанность" гладкого поля картона, холста или бумаги, покрытого в композициях темперными красками на клеевой основе, создает тусклую
поверхность в композициях, в которых все большую роль играет "пустота", разреженная зона между формами. Стертость, неясность границ между
цветами и формами вызывает эффекты мерцания, неожиданного сияния "пустоты", в зависимости от
расположения внешнего источника света. В данных работах Николаев уже вплотную подходит к цели,
поставленной им перед собой еще в начале творчества - созданию всеобъемлющего, "всеохватного" ис-
кусства..." (Марина Бессонова).
Галина Вадимовна Ельшевская — российский искусствовед, историк и критик искусства, специалист по русскому искусству XIX-XX веков, русской и советской графике, писала о творчестве Виктора Николаева следующее: "...Занятия асбтрактным искусством предполагают философский склад ума и характера. Так во всяком случае принято считать, и не без оснований: работа с отвлеченными формами, с очищенными категориями языка порождает своего рода интеллектуальную рефлексию и провоцирует на теоретизирование по поводу общих законов пластики и пространства. Виктор Николаев - абстрационист стихийный, "нутряной":
тем интересен и оттого даже в собственном кругу одинок. На протяжении многих лет, не будучи избалован признанием, он последовательно осуществлял свою
программу - собственно, и на программу-то ничуть не похожую.
Видимая "антипрограммность" состоит в том, что первоначальный спонтанный жест, лежащий, вероятно, в основе любой экспрессивной абстракции, здесь сознательно не подвергается воздействию никакой внешней дисциплины. Каждая отдельная работа напоминает непосредственный "ташистский" выбор эмоций; "дикорастущие" штрихи, нежесткая маркированность верха и низа, свободное цветение композиций. Форма возникает как прихоть почерка,
непредсказуемый результат автоматического письма. Впрочем, графологические характеристики этого почерка достаточно постоянны и образуют своего рода внутренний канон внутри же канона конфигурация элементов всякий раз зависит от конкретного состояния души, определяющего и темп живописной речи, и цветовую мелодику, и выбор формата и основы.
Доверие к субъективной стихийности чревато эстетическим произволом - однако с холстами и картонами Никола-
ева этого, как правило, не происходит. При всей экспрессивной хаотичности художественного языка в большинстве вещей ощутимо присутствие сложной гармонии; они - неслучайны. Словно бы каждая "стенограмма" созвучна неким природным, космическим ритмам, на которые настроена и подобно мембране отзывается кисть.
Видимо, в этом состоит осознанная или нет, несущественно-внутренняя установка художника: включить собственную артистическую импульсивность в мировой энергетический поток, чтобы возникающий абстрактный образ нес в себе отпечаток этого потока и оттого обладал бы знаковой непреложностью сродни непреложности медиумического сообщения. Напряженность или успокоенность композиций, их легкость или весомость интерпретируют
изначальные оппозиции "активного - пассивного", "мягкого - твердого" и так далее. То есть, сквозь индивидуальный
тембр и личностную аранжировку проявляется опять же в спорадическом, непосредственном жесте тот общий, сущностный закон, который и делает картину не случайным сочетанием линий и пятен, но явлением искусства.
Собственно, подобный метод работы был сформулирован достаточно давно, еще старыми китайскими мастерами. Как сказал один художник-каллиграф,
"если сердце правильно настроено, то кисть правильно движется. Сердце правильное, и кисть правильная"
(Галина Ельшевская).
Евгений Штейнер в своей искренней, дружеской статье "Про Витю Николаева" писал: "Самое примечательное в нем [Викторе Николаеве]- постоянство и верность себе. Точно так же [как в Иерусалиме] Николаев писал в Москве, в Париже, так же он работает теперь в Кельне. Наверное, самое экзотическое окружение вряд ли способно сильно изменить его.
Николаев всегда и везде тот же самый. Он принадлежит к художникам- визионерам, которые смотрят не вовне, а внутрь - не внутрь вещей, а
внутрь себя. Николаев - не зритель, не созерцатель, даже не преображатель. Его картины являют собой чистое умозрение в красках. Осознанно или
нет, он исповедует жизнетворческий идеал даосского мудреца - не выходя на двор, познает мир. Живописный мир В. Николаева мир чистой формы, которая в конечном итоге и является сущностью живописи. Это краски, линии и фактура, предельно сублимированные от профанической реальности, от грубой предметности вещей и иллюзорности человеческих отношений. Это живопись немудрого философа, малого мира сего, прозревшего первозданный хаос, таящийся под накинутой на
него сеткой классифицирующей регламентации, то бишь культуры. Мир Николаева - это мир до наречения имен, это живопись простая как мычание, ибо к чему слова, коли прочувствована всеобщность жизни - в коей, как было сказано давно и не нами, все -
в одном, и одно - во всем... Засилье вербализма отучило видеть живопись как таковую. Концептуализм, последняя по времени мощная экспансия литературы в изобразительное искусство, породил множество квазивизуальных текстов умных, многосмысленных, ироничных, но почти заставил забыть, что была когда-то адекватная своему времени живопись, просто живопись - искусство размазывания красок на плоскости.
Живопись Николаева постконцептуальна и чиста от слов, идей, псевдодемократической чепухи и
т. п. Все его композиции лишены даже названий. Это непрограммные музыкальные разработки, фиксирующие состояние души при отвлеченном состоянии духа. Трудно воспринять это адекватно, трудно отказаться от описательных подпорок, хотя
бы в виде названия так поступили, например, составители каталога выставки Николаева в Париже,
назвав большое полотно с обилием острых динамичных красных пятен "Красные идут". Как и следова-
ло ожидать, коммерческая ценность работы после этого возросла; поле духовного притяжения - ослабло.
Экспрессивная лирика абстракций Николаева безразлична не только к времени и месту действия - будь-то застойно-перестроечная Москва, или Париж и Иерусалим (эпитеты вставьте сами). Его живопись хочет быть Живописью как идея, отвлеченной от конкретного, вечного, носителя его
цветных пятен, кругов и закорючек. Он может писать на холсте, на скатерти, на цветных занавесках, на принесенных с помойки фанерках... Одно время он активно использовал холстину с рекламных щитов Дома Художника на Крымском валу [в Москве], извещавших о разных выставках. Едва загрунтованные казенные надписи типа "Живопись" или "Графика", или еще того несуразней подчас проступают из-под эмоциональной невнятицы Николаева - как чужое слово, оставшееся лишь в виде сора, из которого, не ведая стыда, растут бессловесные тексты нашего героя.
Эти холсты с замазанной рекламой продукции советских мастеров изобразительного искусства
предстает пост-концептуальным (а может, и пост-культурным) палимпсестом, на коем художник-
варвар кистью сонной... пишет неизреченные знаки, оставшиеся после смерти человеческой речи..."
(Евгений Штейнер,
Иерусалимский Университет).
А вот что пишет Павлена Павлова, куратор московских выставок "Магия Беспредметности", "Линии Пустоты", "Абстрактный оркестр", "Пламень племени нонконформистов", общаясь только с произведениями В. Николаева: "Работая с абстрактной каллиграфией Виктора Евсеевича Николаева приходит ощущение, что ты соприкасаешься со вселенским разумом через личное бессознательное художника, такова космическая глубина произведений художника. Во истину не ведал, что творил, - такова масштабность этого художника. Чем дольше разглядываешь картины В. Николаева, тем больше образов рождается в моем воображении. Все они очень интересные. Удивительно, что в одном и том же произведении можно одновременно увидеть и грустное, и юмор. Очень глубок, богат внутренний мир этого художника, а его творчество обогащает зрителя и эмоционально, и интеллектуально, развивает образное мышление и фантазии.
Виктор Николаев создал свой инопланетный эмоционально -буквенный код" (Павлена Павлова).
Статье "Знак свободы. Памяти Виктора Николаева" Ильдар Харисов писал: "... Виктор Николаев около двух десятилетий делил свой быт и работу между столицами России и Германии, словно связывая Москву и Берлин единым цветовым «жестом», загадочным и притягательным знаком – символом общности и всеохватности культуры. «Знак» было любимое слово Виктора. «Сила знака», «Власть знака», «Метаморфозы знака» – названия его выставок, перформансов, мини-эссе. Предметом особой гордости Виктора было умение быстро, «на лету» покрыть листы бумаги или человеческое тело рядом красивых знаков, напоминающих японские или китайские иероглифы. Уверенные движения кисти, часто в диалоге с музыкой, – и перед изумленным зрителем возникает целое письмо, написанное на неизвестном языке, рожденном в воображении художника. Ни один из знаков не повторяется, всё возникает «здесь и сейчас», как некая спонтанная каллиграфия души, квинтэссенция момента, визуализация бессознательного и сверхсознательного. Такова же и живопись Виктора Николаева: импульсивная, «сновиденная», сторонящаяся привычных геометрических форм.
В жизни художник также старался избегать формальностей, правил, общепринятых рамок... В 2005 г. он создал «Театр каллиграфии», показывавший спектакли-перформансы в культурных центрах Москвы, Берлина, Лейпцига, Ганновера, Севастополя и других городов... Непростые семейные отношения, невписанность в истеблишмент, постоянная готовность вторгнуться в душевные и художественные миры как современников, так и мастеров далеких эпох, горячие споры с коллегами – а среди участников и соавторов проектов «Театра каллиграфии» были выдающиеся музыканты, танцоры, литераторы – всё это создавало «вулканическую» атмосферу вокруг московско-берлинского «шамана» Виктора Николаева, любящего и умеющего удивлять не только других, но и себя самого..."
(Ильдар Харисов - музыкант, литератор, член Союза писателей XXI века и Союза композиторов РФ)
